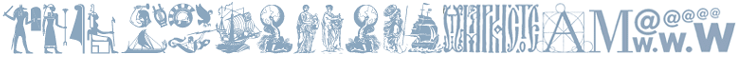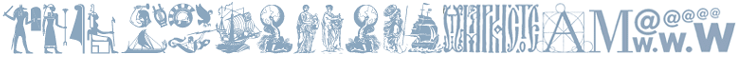Закон Сэя - из локковской версии количественной теории денег ценность денег определяется исключительно их количеством, находящимся в обращении ,которое вытекает в тождество Сэя. Механизм, возвращающий рынки к состоянию равновесия после отклонения от него
1. Закон рынков Сэя
В экономике с развитым разделением труда нормальным для каждого человека средством приобретения товаров и услуг служит способность производить для обмена эквивалентные товары и услуги. Производство не только увеличивает предложение товаров, но и благодаря необходимому покрытию издержек производства также порождает спрос на эти товары. "Продукты уплачиваются за продукты" во внутренней торговле так же, как и во внешней - вот суть закона рынков Сэя. Столь простая мысль произвела фурор, не совсем утихший и по сей день.
Утверждение о том, что "продукты уплачиваются за продукты" ни в коей мере не тривиально. В каком-то смысле это начало глубокого макроэкономического анализа. Одно дело говорить, что некая отрасль производит "слишком мало" или "слишком много" с точки зрения независимо друг от друга заданных кривых спроса и предложения - кривая спроса на продукцию отрасли определяется на основании дохода, произведенного всеми остальными отраслями, и никак не связана с кривой предложения. Но мы не можем в этом же смысле говорить о всей экономике как производящей слишком мало или слишком много, так как совокупные спрос и предложение не являются независимыми друг от друга. Спрос на продукцию любой отрасли должен увеличиваться в реальном выражении тоща, когда предложение всех отраслей растет, потому что именно предложение создает спрос на продукцию этой отрасли. Закон Сэя, следовательно, предостерегает нас от применения к макроэкономическим показателям суждений, выведенных из микроэкономического анализа. Отдельный товар может быть произведен в избытке относительно всех остальных товаров, относительное перепроизводство сразу всех товаров никак не может произойти.
Кажется, что речь идет о терминологии: не следует говорить "общее перепроизводство" или "общее недопроизводство", так как логически это абсурд. Но, разумеется, это абсурд только в бартерной экономике. Можно говорить о перепроизводстве лишь относительно чего-либо: рассматривая все товары в экономике и не упоминая о деньгах, мы исключили все, по отношению к чему товары могут быть произведены в избытке. Избыточное предложение отдельного товара означает недостаток спроса на него относительно всех прочих товаров, потому что их предложение в обмен на этот товар характеризует именно спрос; избыточному предложению на один из товаров обязательно соответствует избыточный спрос по меньшей мере на один из остальных товаров. Следовательно, в бартерной экономике не может быть такого явления, как превышение предложения над спросом для всех товаров. Но в денежной экономике общее избыточное предложение товаров логически возможно, так как это просто предполагает существование избыточного спроса на деньги. Если говорится о применимости закона Сэя к реальному миру, то этим утверждается нереальность избыточного спроса на деньги. "Нереальность" в этом случае вряд ли может означать логическую невозможность. Должно подразумеваться, что спрос на деньги не может быть . всегда избыточным, потому что это соответствует ситуации неравновесия. Перед тем как выяснить, что же подразумевал сам Жан Батист Сэй, мы должны обратиться к идее равновесия на денежном рынке. Сделав это, значительно легче объяснить значение закона Сэя в классической теории.
2. Тождество Сэя
Предположим, что в замкнутой экономике есть и благ. Если взять любое из них в качестве единицы отсчета, установив его цену равной единице и выразив через нее цены всех остальных благ, тоща необходимо будет определить n-1 обменных соотношений или относительных цен. Например, пусть х1 - пшеница, х2 - яблоки и х3 - апельсины, причем 2 яблока обмениваются на 1 единицу пшеницы (х2/х1 = 2) и 1 апельсин на 2 единицы пшеницы (х3/х1 = 1/2). Относительные цены будут обратны этим обменным соотношениям, т.е. p2/p1 = 1/2, p3/p1 = 2. В этом случае должно быть справедливо, что 4 яблока будут обмениваться на 1 апельсин (p3/p2 = p3/p1 p1/p2 = 4). Полный набор обменных соотношений для нашей системы, состоящей из трех товаров, прямо задается двумя относительными ценами и тождеством единицы масштаба цен, в нашем случае - цены пшеницы. Масштаб цен может быть установлен равным единице или какому-либо другому выбранному числу, скажем некоторому количеству долларов. Фактически такой вид денег служит лишь абстрактной счетной единицей; она может существовать и в предметной форме, но в этом нет никакой необходимости, торговля носит характер бартера. Никто не держит эти деньги как таковые и никто не стремится к обладанию ими. Этот тип счетных денег резко отличается от денег, находящихся в обращении в реальной денежной экономике, так как кроме счетной функции они служат еще и средством сохранения ценности.
В экономике, где используются только счетные деньги, средством обращения служит товар, ничем не отличающийся от остальных товаров, - суммарная ценность предложения всех товаров всегда в точности равна совокупному спросу на них.
Тождество Сэя означает, что денежный рынок всегда находится в равновесии, потому что независимо от уровня цен люди выносят товары на рынок лишь для того, чтобы "немедленно" использовать вырученные деньги для предъявления спроса на другие товары. Возможно, на первый взгляд это предположение не .представляется достаточно веским. Подразумевается, что изменение уровня цен никак не затрагивает взаимосвязь товарных и денежного рынков - предельная норма замещения товаров на деньги, по определению, равна 0. Это, в свою очередь, значит, что состояние товарных рынков тоже не затрагивается: изменение уровня цен никогда не приводит к замещению одних товаров другими.
Тождество Сэя может быть выражено в форме так называемого постулата однородности: функции избыточного спроса на товары зависят только от относительных цен, а не от абсолютного их уровня, или, используя язык математики, функции спроса на товары являются "однородными степени ноль относительно цен в денежном выражении". Однородные функции обладают тем свойством, что если каждый ее аргумент умножить на константу, то функция увеличится в число раз, равное некоторой степени этой константы - степень ее однородности. Например, для однородной функции f(xy) и константы 2:
нулевая степень однородности: f(2x, 2у) = 20f(x,y) = f(x,y),
первая степень однородности: f(2x, 2у) = 21f(x,y) = 2f(x,y),
вторая степень однородности: f(2x, 2у) = 22f(x,y) = 4f(x,y),
или, в общем, f(lx, lу) = lm(lx, lу), где l - произвольная положительная константа и т - степень однородности функции. Мы уже встречали однородные функции первой степени, не называя их так, при рассмотрении производственных функций, обладающих свойством постоянного эффекта масштаба: удвоение количества ресурсов x и y ведет к удвоению выпуска. Здесь же f(xy) есть функция спроса на товар, цена которого равна x, цены остальных товаров обозначены через y. Если эта функция спроса является однородной степени ноль, то при удвоении всех цен спрос на этот товар остается неизменным. Это легко показать. Взяв однородную функцию спроса степени ноль относительно x и обозначив у,..., z цены остальных товаров, получим Dx = f(lx, lу,..., lz). Принимая l = (1/х), имеем Dx, = f(1, y/x,..., z/x). Функция от z независимых переменных была заменена на эквивалентную ей, в которой зависимыми переменными являются z-1 отношений. Эти отношения есть относительные цены, и функция спроса относительно x варьирует с изменением z-1 относительных, а не z абсолютных цен. Заметим, что на самом деле мы вернулись к счетным деньгам, где x играет роль единицы измерения. Разумеется, если в системе присутствуют только счетные деньги, все функции спроса однородны степени ноль относительно абсолютных цен, так как в действительности не существует никаких абсолютных цен в денежном выражении.
В мире, где тождество Сэя имеет место, деньги являются "вуалью", которая может быть поднята без анализа абсолютных цен. Но, конечно, это справедливо только потому, что мы сконструировали денежную экономику, а затем ввели условие, по сути приравнивающее ее в действии к бартерной. В бартерной экономике люди никогда не смогли бы изменить сумму обладаемой ими наличности по причине ее отсутствия. Введение в рассмотрение денег при абстрагировании от их функции средства сохранения ценности ничуть не продвигает нас далее. Зачем тогда вся эта болтовня о тождестве Сэя? Классики часто говорили о невозможности общего перепроизводства в денежной экономике; тождество Сэя расшифровывает значение этих утверждений. Но прежде чем спросить, на самом ли деле Сэй, Рикардо и Джон Стюарт Милль придерживались тождества Сэя, необходимо рассмотреть роль денежной теории в экономике, где EDn 0.
3. Дихотомизация процесса ценообразования
Утверждение о том, что рынок какого-либо товара всегда находится в равновесии, т.е., что избыточный спрос на этот товар тождественно равен нулю, - равносильно неопределимости цены этого товара. Какие бы факторы ни определяли эту цену, их природа внерыночна. Таким образом, тождество Сэя, подразумевающее, что денежный рынок всегда находится в равновесии, оставляет ценность денег неопределимой. В математическом смысле эта неопределимость - результат недостаточного числа экономически значимых уравнений для нахождения неизвестных. Для n товаров мы имеем n известных функций спроса и предложения, только n-1 из которых являются независимыми. При данных n-1 функциях n-я полностью определена: любой набор цен, удовлетворяющий n-1 функциям, удовлетворяет и n-й: Согласно закону Вальраса всегда можно исключить одно уравнение. Таким образом, имеются n-1 неизвестных цен на товары, или n-2 неизвестных цен на товары плюс неизвестная ценность денег, а также n-2 известных функций избыточного спроса на товары и известная функция избыточного спроса на деньги. Правда, последняя не является уравнением в полном смысле слова, так как согласно тождеству Сэя EDn ? 0. Итак, для вычисления n-1 неизвестных у нас есть только n-2 уравнений - неопределенная система.
Это послужило основанием для известного критического замечания, сделанного Патинкиным уже в наше время, будто классическая и неоклассическая теории "дихотомизировали процесс ценообразования"1: они определяли относительные цены на товарных рынках и абсолютные цены на денежном рынке, что с необходимостью предполагает неизменность количества денег на руках у населения независимо от уровня товарных цен. Но если люди предъявляют спрос на номинальные денежные остатки по той причине, что поступления и расходы не могут быть в полной мере синхронизированы (трансакционный мотив обладания наличностью) или в связи с неопределенностью будущего (мотивы предосторожности и спекулятивный) этот спрос на деньги, а именно спрос на реальные кассовые остатки, будет варьироваться с каждым изменением ценности денег или уровня цен. "Пропущенное уравнение", о котором мы говорили выше, есть нечто подобное кембриджскому уравнению:
, где k - доля совокупного товарного предложения в денежном выражении, которую люди пожелали бы держать в качестве кассовых остатков, и M - предложение денег. Коэффициент k кембриджского уравнения формально идентичен фишеровскому 1/V - можно сказать, что люди в среднем желают держать сумму, равную определенной доле объема своих операций T, скажем, k = 1/12, или можно сказать, что M обращается 12 раз в год, V = 12. Первая интерпретация отражает "теорию остатков", тогда как вторая - "теорию движения", скорости обращения денег. В любом случае главная мысль такова: если цены растут, люди стараются возместить потери реальных остатков своих средств. Это означает, что они увеличивают объем предложения товаров и услуг, одновременно сокращая спрос. Функции спроса на товары изменяются по причине роста абсолютных цен, и "постулат однородности" не соблюдается.
4. Тождество Сэя и количественная теория денег
Возьмем последний пример в долгой истории осмысления выводов из тождества Сэя. Тождество Сэя вытекает из чисто локковской версии количественной теории денег ценность денег определяется исключительно их количеством, находящимся в обращении. Действительно, главным образом количественная теория денег приводила к "дихотомизации процесса ценообразования". Достижением количественной теории денег явилось то, что она показывала, что деньги сами по себе не конституируют богатства. Однако, фокусируя внимание исключительно на роли денег как средства обращения, она вела к игнорированию взаимосвязи между товарным и денежным рынками, проистекающей от функции денег как средства сохранения ценности.
Эта теория может быть представлена равенством MV = РТ или М/Р = T/V По Локку, постоянство отношения М/Р, соответствующее строго пропорциональным изменениям денежной массы и уровня цен, низводит это равенство до тождества. Отмечалось, что люди, исходя из трансакционного мотива, предъявляют спрос на данное количество наличности, т. е. М/Р. "Каждый индивид должен обладать по меньшей мере таким количеством денег или своевременных денежных поступлений, чтобы быть в состоянии немедленно или в течение краткого промежутка времени удовлетворить требования своего кредитора, поставляющего все необходимое для жизни и производственной деятельности этого индивида", - писал Локк в 1691 г. Казалось бы, здесь утверждается, будто стабильный спрос на денежную наличность сохраняет определенное соотношение денежной массы к объему торговли. Однако нежелание допустить возможность взаимно независимых изменений М и Р приводит к выводу, что любой прирост объемов операций просто покрывается изменением скорости обращения денег. Аналогичным образом увеличение количества денег в обращении всегда поглощалось изменением уровня цен вне всякой связи с операциями на товарных рынках. Иными словами, утверждения о том, будто уровень цен целиком и полностью определяется количеством денег в обращении, - что М и Р изменяются взаимно пропорционально, а Tопределяется исключительно естественными факторами, - равносильны отрицанию любых мотивов обладания наличностью, включая даже трансакционный, и в конце концов приводят к трактовке денег как счетной единицы. Абсолютные цены никак не связаны с происходящими на товарных рынках процессами только в случае, когда деньги не обладают иными функциями, кроме средства обращения.
Так как ценность денег есть отношение между их количеством, с одной стороны, и совокупным товарным предложением, - с другой, ни одна из этих сторон не может быть определяющей для соотношения. Все факторы, влияющие на МV/T, в той или иной степени определяют уровень цен. Однако в страстном желании отрицать какое бы то ни было воздействие денежных факторов на объем торговли, многие сторонники количественной теории денег раннего периода искали утешения в доктрине, гласящей, что уровень цен определяется исключительно предложением денег М, и таким образом действительно дихотомизировали процесс ценообразования, отрицая все мотивы обладания наличностью как средством сохранения ценности, и в результате вверялись тождеству Сэя.
5. Равенство Сэя
Теперь мы имеем все необходимое для осмысления существа классической денежной теории. Верно ли, что экономисты-классики придерживались тождества Сэя? Как мы выяснили, все утверждения, отрицающие любые мотивы держать наличность (деньга есть только средство обмена; деньги - вуаль, поскольку относительные цены определяются исключительно вещественными факторами; предложение автоматически создает соответствующий ему спрос безотносительно к уровню цен; абсолютные цены всегда изменяются пропорционально объему денежной массы), являются выражением сути тождества Сэя. Многие экономисты классической школы в действительности высказывали подобные мысли - без труда можно отыскать многочисленные утверждения такого рода в работах Рикардо, Мак-Кулоха, Сениора, Торренса, Джеймса Милля и Джона Стюарта Милля. Но перед тем, как прийти к заключению, что все они грешили дихотомизацией процесса ценообразования, мы должны отделить поверхностные утверждения о незначительности денег как таковых, когда автор не заботится о логических выводах, следующих из такого рода высказываний, от проделанного в явном виде анализа проблемы динамики цен в денежной экономике2.
Известно, что все экономисты-классики знали о периодических кризисах. Рикардо написал специальную главу, посвященную торговым кризисам в послевоенный период и рассматривал возможность возникновения безработицы в результате технических нововведений. Его последователи явились свидетелями кризисов 1825, 1836 и 1847 гг., и каждый из них понимал, что экономика свободного предпринимательства подвержена периодическим колебаниям деловой активности. Чтобы ни означал для них закон Сэя, они отнюдь не считали единственной причиной падения цен в реальном мире изменение количества денег. Более того, все они были знакомы с эффектом Кантильона, отвергающим "постулат однородности". Согласно Кантильону, изменения цен, вызванные "впрыскиванием" наличных денег в экономику, варьируются в зависимости от природы "впрыскивания", а изменения абсолютных цен почти всегда сопровождаются изменением относительных цен. Они не могли не осознавать бессмысленности предположения, что совокупный спрос всегда равен совокупному предложению независимо от уровня цен и что отклонения от состояния полной занятости не могут иметь места. Скорее, они развивали мысль, что экономика совершенной конкуренции всегда тяготеет к полной занятости.
Депрессия не может тянуться бесконечно, поскольку предложение формирует спрос на микро- и макроэкономическом уровнях через автоматическую коррекцию цен и процентной ставки. Это и есть "равенство Сэя", согласно которому избыточное предложение товаров или избыточный спрос на деньги имеют тенденцию к саморегулированию. Если складывающийся уровень спроса демонстрирует невозможность продажи всех товаров по цене, покрывающей издержки и приносящей нормальную норму прибыли, цены должны снизиться. Покупательная способность денежного номинала увеличится, и каждый индивид окажется обладателем реально возросшего запаса денег, налицо ситуация избыточного спроса на деньги. При стремлении индивидов уменьшить объем наличных средств, находящихся в их распоряжении, спрос на товары возрастает вплоть до момента поглощения избыточного предложения на товарных рынках. Нулевой избыточный спрос на деньги есть условие равновесия, так как цены и процент будут падать, пока существует избыточный спрос на наличные деньги. Аналогичная аргументация применима и к обратному случаю роста цен при избыточном спросе на товары. Следовательно, "предложение создает соответствующий спрос" не безотносительно к динамике цен, а благодаря ей. Исходя из этого абсолютные цены определяются той же совокупностью факторов, что и относительные: для каждого набора относительных цен существует соответствующий единственный уровень абсолютных цен, при котором денежный рынок находится в состоянии равновесия. Это справедливо для изолированной экономики в той же степени, что и для открытой, за исключением того, что в открытой экономике уровень цен выполняет дополнительную функцию балансирования экспорта и импорта. Таким образом, становится ясно, что равенство Сэя не приводит к дихотомизации процесса ценообразования.
6. Кейнс и закон Сэя
Когда экономист классической школы утверждает невозможность перепроизводства, он имеет в виду не периодические кризисы, а перманентную стагнацию. В состоянии ли капиталистическая экономика абсорбировать постоянные приросты производственных мощностей без нарушения границ, внутренне присущих системе? Равенство Сэя отвечало на этот вопрос утвердительно: при условии гибкости цен система стремится к равновесию с полной загрузкой мощностей. Классические экономисты никогда не формулировали это предположение сколь-нибудь строго, однако всегда считали его убедительным доводом в области сравнительной статики.
Известно утверждение Кейнса о том, что развитая экономика совершенной конкуренции в действительности не тяготеет к состоянию полной занятости. Негибкость заработной платы и цен, низкая эластичность инвестиционного спроса по проценту, "ловушка ликвидности" - любая из этих причин может быть достаточной помехой для достижения равновесия при полной занятости. К этому он мог бы добавить, что даже если равенство Сэя является убедительным доводом в области сравнительной статики, оно не в состоянии продемонстрировать достижимость равновесия с полной занятостью в динамике: процесс продвижения к состоянию равновесия во времени может сместить саму точку равновесия, так что равновесное состояние всегда преследуется, но никогда не достигается. Но вместо того, чтобы признать теоретическую обоснованность равенства Сэя в соответствующих границах, - и этого вполне достаточно, чтобы отвергнуть ужасные предсказания о перманентном состоянии перепроизводства, - а затем указать на ограничения, лишающие его практической значимости в условиях развитой экономики, Кейнс предпочел нападать на тождество Сэя, приверженность которому он приписывал всем предшествующим экономистам3. В результате критики Кейнса закону Сэя стало придаваться значение, несоразмерное с его действительной ролью в классической и неоклассической теории.
Должно быть, многие читатели "Общей теории" были удивлены высказыванием, будто основой рассуждений Маршалла является закон Сэя, который в его "Принципах" исчерпан одним абзацем. Кейнс объяснял это так: закон Сэя являлся столь ортодоксальной доктриной, что Маршалл не затруднял себя его разъяснением. Но гораздо убедительнее объяснение, что к 1890 г. вопрос о возможности (или невозможности) перманентного перепроизводства был полностью разрешен. Вместо утверждения: "если люди не тратят свои деньги одним способом, они потратят их иначе", являющегося одной из версий закона Сэя у Кейнса, Маршалл отметил: "хотя люди обладают возможностью покупать, они могут и не пользоваться ею" и на этом остановился. Отсутствие дальнейших рассуждений может озадачить, но, конечно же, здесь нет никаких предположений о том, что избыточный спрос на деньги всегда с необходимостью равен нулю.
7. Прямой механизм
Теперь мы должны более внимательно рассмотреть классическую концепцию равенства Сэя. А именно: каков механизм, возвращающий рынки к состоянию равновесия после отклонения от него? Мы уже видели, что тождество Сэя устраняет потребность в какой бы то ни было теории денег. Наоборот, равенство Сэя придает особое значение функционированию денежных рынков. Поиск обоснования равенства Сэя относится поэтому непосредственно к области классической теории денег.
Классическая денежная теория распадается на два направления, каждое из которых соотносит уровень цен и количество денег в экономике: концепцию "прямого механизма", изложенную Кантильоном и Юмом, и концепцию "косвенного механизма", впервые установленную Торнтоном и затем повторенную у Рикардо. Общим местом классического анализа являлось утверждение, что рост денежной массы воздействует на цены непосредственно через его ранее произошедшее влияние на спрос: увеличение денежных поступлений повышает расходы, так как люди удовлетворяют свои потребности имеющимися у них наличными средствами. Доктрина XVIII в., определяющая количество денег в экономике потребностями в совершении сделок, основывалась на существовании стабильного спроса на "рабочую" наличность4. Как мы уже видели, и Юм, и Кантильон уделяли внимание характеру распределения дополнительно введенной в экономическую систему наличности, включая различные лаги этого процесса. В результате они продемонстрировали, что рост количества денег повышает цены в той же пропорции только в случае нейтрального распределения избыточных наличных средств, т. е. если начальные средства всех индивидов увеличиваются в равной пропорции. Как писал Юм, если представить, будто все денежные средства в один прекрасный момент удвоились, тоща цены начнут расти и в этом специальном случае вырастут вплоть до их удвоения.
Этот пример имел особое значение в истории денежной теории, и мы должны рассмотреть его достаточно тщательно. Начнем с построения кривой спроса на номинальные денежные средства как функции от уровня цен. Этот спрос складывается из траксакционного спроса на активную наличность (M1) и спроса на пассивную наличность, или "сокровище", по спекулятивным соображениям (M2). Как и Локк, будем считать, что кривая трансакционного спроса имеет вид равносторонней гиперболы. По этой причине произведение абсциссы и ординаты каждой точки кривой есть константа. Но так как ордината показывает относительную цену денег - объем реального дохода, который приходится на одну денежную единицу, а абсцисса - объем спроса на деньги, площадь любого сегмента, ограниченного этой кривой и координатными осями, выражает реальную ценность наличных средств, на которые предъявлен спрос. Представляя кривую трансакционного спроса на наличность в виде равносторонней гиперболы, мы говорим, что при росте цен люди предъявляют спрос на большее количество номинальной наличности, но лишь для сохранения реальной ценности "рабочей" наличности. Теперь мы прибавляем спрос на пассивную наличность, выраженный согласно кейнсианской традиции как функция от процентной ставки; таким образом, функция M2 изображена не зависящей от уровня цен . Складывая графики обеих функций спроса, получаем Dn, кривую спроса на все денежные средства, которая с необходимостью имеет более крутой наклон, нежели равносторонняя гипербола (проверьте и убедитесь, что если сдвинуть последнюю на определенное расстояние вправо, она перестает быть равносторонней).
Таким образом, кривая спроса на номинальную наличность наклонена круче, чем равносторонняя гипербола. Она отнюдь не демонстрирует пропорциональное изменение количества денег и уровня цен. На самом деле здесь показано изменение спроса на номинальную наличность в связи с изменением цен: кривая спроса каждого индивида направлена вниз, поскольку при более высоких ценах индивид обычно держит больше номинальных средств, но наклон ее больше, чем у равносторонней гиперболы, так как при возросших ценах этот индивид будет держать меньше денег в реальной их ценности. Форма кривой в каждом случае зависит от соотношения склонностей к обладанию реальными покупательными резервами и к потреблению. В нормальном случае, когда ни наличность, ни товары не являются "внутренними" благами, т. е, такими, стремление обладать которыми уменьшается с ростом дохода, кривые спроса индивидов и, следовательно, кривая совокупного спроса на номинальную наличность будут отклоняться вниз с эластичностью, меньшей единицы. Кривая спроса единичной эластичности (равносторонняя гипербола) будет свидетельствовать, что индивид при падении цен, несмотря на улучшение своего положения, не изменит сумму реальной наличности. Но типичный индивид предпочтет уменьшить свою номинальную наличность, чтобы при том же уровне дохода купить по сниженным ценам больше товаров.
Повторим: мы начали анализ с того момента, когда денежная масса и уровень цен находятся в равновесии, затем проварьировали одну из независимых переменных - в данном случае, количество номинальных средств каждого из индивидов - и показали, что система возвращается к состоянию равновесия при пропорциональном росте цен и денежной массы. Это типичный пример сравнительной статики, демонстрирующий при корректном изложении правильность количественной денежной теории. Наше представление теоремы о том, что пропорциональное увеличение денежных средств каждого индивида приводит к росту цен в той же пропорции, заимствовано у Патинкина. Эта теорема никогда строго не формулировалась классиками, но она раз за разом затрагивалась у Юма, Рикардо, Джона Стюарта Милля и многих других, и вполне можно считать, что они понимали ее суть, включая предпосылки, необходимые для ее истинности.
8. Косвенный механизм
Теперь обсудим теорию косвенного механизма, связывающего деньги и цены, - второе направление классической денежной теории. Было отмечено, что количественная теория денег не придает какого-либо явного значения процентной ставке, а без этого любая денежная теория не может обладать достаточной ценностью. Уравнение обмена на самом деле не имеет никакого отношения к процентной ставке, однако количественная теория денег и тождеством MV ? PT представляют собой разные вещи. В любом случае классическая теория косвенного механизма, связывающего М и P, уделяет особое внимание денежной ставке процента. Косвенный механизм был впервые установлен Генри Торнтоном в его работе "Принципы бумажноденежного кредита в Великобритании" (1802), наиболее выдающейся работе по денежной теории классического периода, и затем дословно повторен Рикардо и Миллем. Аргументировалось это так: денежное равновесие в экономике с наличием неденежных активов существует, только когда ставка процента на денежном рынке равна норме прибыли на вложенный капитал на товарных рынках. Дополнительное поступление денег на кредитный рынок может произойти только через банковскую систему; возросшее предложение заемных средств понижает процентную ставку ниже уровня нормы прибыли; объем кредитования возрастает с ростом цен на инвестиционные блага, стимулирующим спрос на займы. В конце концов возросший спрос на заемные средства сравняется с их предложением. Тем не менее, все время, пока ставка процента остается ниже нормы прибыли, спрос на займы остается ненасыщенным. Вскоре спрос на кредит уравновесится с предложением, и ставка банковского процента опять начнет расти. Если реальная норма прибыли осталась неизменной, равновесие устанавливается только в случае возвращения ставки процента к прежнему уровню. Цены выросли, но процентная ставка осталась без изменения. Итак, в состоянии равновесия процентная ставка не зависит от количества денег в обращении.
Теория двух ставок процента - реальной и рыночной - столетие спустя была самостоятельно переоткрыта Викселлем, который был удивлен, обнаружив, что эта идея не нова. Рикардо использовал ее, чтобы показать возможность неограниченного распространения эмиссии банкнот Банка Англии при условии, что ставка банковского процента держится на достаточно низком уровне; конвертируемость банкноты в условиях золотого стандарта лишает Банк возможности регулировать ставку дисконта, по крайней мере в пределах 5% согласно Закону о ростовщичестве; неконвертируемость, однако, позволяет Банку сдерживать инфляцию, искусственно подавляя ставку дисконта. Совершенно вне связи со сказанным Торнтон подчеркивал связь денежного и товарных рынков и показывал далее, что классическая теория, будучи правильно интерпретирована, не приводит к разделению процесса ценообразования.
9. Сбережения, инвестиции и образование сокровищ
Согласно традиционной интерпретации классической теории процентная ставка устанавливается на рынке заемных средств или, по выражению Кейнса, "рынке долговых обязательств". Ставка процента на денежном рынке зависит от спроса и предложения заемного капитала, иначе говоря, от инвестиций и сбережений соответственно.
Редко указывалось, что финансирование инвестиций может также осуществляться за счет резервов или инфляционного банковского кредита. Что касается Рикардо, он усердно отрицал, что "кредит может породить капитал". Мы рассмотрим мысль, согласно которой инфляционная кредитная экспансия не способна моментально вызвать экономический рост - это не что иное, как спорная теория "принудительного сбережения". Гораздо легче считать, что инвестиции никогда не финансируются за счет накоплений. Под "образованием сокровищ" мы понимаем выведение части доходов из сферы текущих расходов без привлечения их на непотребительские нужды, другими словами, создание запасов наличности. На протяжении классического периода этот термин всегда использовался в уничижительном смысле: только скряга предпочтет держать в запасе больше наличности, чем это необходимо для ведения операций. Строго говоря, типичная классическая характеристика образования сокровищ как "аномалии" должна подразумевать, что люди никогда не держат сбережения в форме наличных денег и не осуществляют инвестиции за счет последних. Избыточный спрос на деньги тождественно равен нулю, и мы опять вернулись к тождеству Сэя и неопределимости абсолютных цен.
Следовательно, в денежной экономике сбережения и инвестиции не должны всегда обязательно равняться предложению и спросу на заемные средства. Но в положении равновесия это будет справедливо, так как равновесие предполагает удовлетворенность каждого индивида объемом располагаемой наличности. Таким образом, ясно, что последовательное толкование классической теории приводит к отрицанию утверждения о равенстве запланированных сбережений и запланированных инвестиций. Такого рода высказывание является просто кейнсианским объяснением функционирования рынка заемных средств. Так как классические экономисты придерживались скорее равенства Сэя, нежели тождества, они вполне должны были допускать предусмотренную у Кейнса возможность того, что намеченный уровень сбережений может и не реализоваться. Косвенный механизм обладает тем достоинством, что он фокусирует внимание на величине спроса на кредитном рынке как функции от ставки процента. Для любого объема предложения реальных сбережений и банковского кредита существует уровень цен, приравнивающий ставку процента к данной норме прибыли и таким образом обеспечивающий равновесие на рынке заемного капитала. Понятно, что если запланированные сбережения превышают запланированные инвестиции, то ставка процента снизится, а уровень цен возрастет, восстанавливая равновесие. Единственное различие между этими доводами и аргументацией Кейнса состоит в том, что согласно последнему сбережения есть функция от дохода, тогда как в классическом анализе сбережения есть сложная функция от ставки процента и уровня цен, выраженных через инвестиционные возможности. У Кейнса к равновесию приводят вариации уровня дохода, в классической теории - изменения цен и ставки процента. Все это маскируется тем фактом, что классики почти никогда не употребляли термин "инвестиции" и говорили о сбережении, имея в виду не процесс, а скорее его результат, т. е. действительно сбереженные средства; у них слово "сбережения" уже подразумевало их инвестирование в дополнительные капитальные блага. Иначе говоря, предполагается по сути отождествление сбережений и инвестиций, но это никак не могло иметься в виду. Однако совершенно справедливо, что неудачные попытки раскрыть процесс достижения равновесия часто вынуждали классических авторов принять за отправную точку результаты сравнительной статики и обсуждать взаимосвязи между переменными, подразумевая постоянное равновесное состояние рынка.
Хотя большинство классиков в явном виде не делали различия между сбережением и ссужением, с одной стороны, а также инвестициями и получением кредитов, с другой, они не настаивали на том, что ставка процента определяется исключительно объемами сбережений и инвестиций. Теория ссудных фондов, предполагающая влияние денежного рынка на процентную ставку, обсуждается у Торнтона и Рикардо и со знанием дела развивается в гл. 23 книги III "Принципов" Милля. В связи с тем, что Джон Стюарт Милль определял сбережения как доход, "не потребленный лицом, которое осуществляет сбережения", а сокровище как доход, "не потребляемый вообще", можно заключить, что выражение "запланированные сбережения" в современном смысле эквивалентно классическим сбережениям плюс сокровища, так как избыток "запланированных сбережений" над запланированными инвестициями в современном анализе производит тот же эффект , что и увеличение тезаврации у классиков.
Используемые источники
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: "Дело Лтд", 1994
2. ru.wikipedia.org